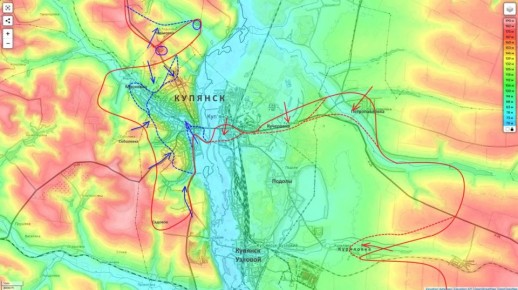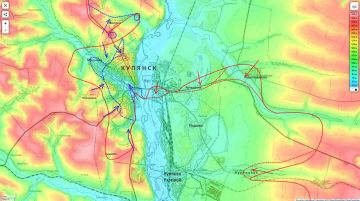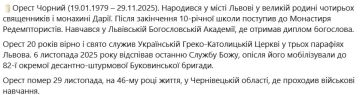Практически все, что сегодня пишется и произносится в поддержку мирного разрешения "российско-украинского конфликта" - следует рассматривать как словесное сопровождение того, что зовется публичной политикой.
В пределах же политики подлинной - любые видимые глазу "мирные переговоры"/контакты России с киевской администрацией – неизбежно рассматриваются как очередной проигрыш российской стороны, т.к. они лишь вновь и вновь подтверждают согласие Москвы с результатами Крушения/капитуляции 1991 года. Именно так их и воспринимают везде и всюду.
В подлинном умиротворении на землях бывших Мариупольского и Бахмутского уездов бывшей Екатеринославской и Харьковской губерний, Области Войска Донского, вообще сказать – на землях бывших Малороссийского, Киевского и Новороссийско-Бессарабского генерал-губернаторств, не заинтересован практически никто, за исключением самой России.
Эту нашу заинтересованность следует признать лишь отчасти вынужденной, или, опять же, публично-политической, но в основе своей - порожденной культурно-исторической инерцией. Мы не просто считаем хорошим тоном говорить о мирной, братской, дружественной, или хотя бы союзной нам независимой Украине, склонной к взаимовыгодному партнерству.
Мы в самом деле уповаем на возможность такого положения вещей. Зато покойный профессор Збигнев Бжезинский, в последнее десятилетие своей жизни склонный к шокирующей простоте, во время одного из последних посещений им Харькова (где, он, будто бы, родился) заметил: "Мы не успокоимся, пока наши ракеты не будут установлены здесь, у самого Белгорода".
Суть геополитического подхода к "украинскому вопросу" всего того конгломерата государств, что может для удобства изложения зваться коллективным Западом, ясна: по крайней мере, с середины XVI в. отношения с государством Российским основаны на триаде "сдерживание-отбрасывание-расчленение". Поэтому та или иная форма господства (криптооккупации) территорий вышеперечисленных генерал-губернаторств, при использовании местных ресурсов, включая население, для проведения тех или иных операций на российском фронте, неизбежно будет признаваема стратегически целесообразной. Иначе и быть не может.
В свою очередь, самомалейшая опасность прекращения СВО грозит Киеву значительным снижением спроса на единственный товар, который он в состоянии предложить на мировом рынке геополитических услуг. Но опасность эта лишь умозрительная: Западная Европа ни целокупно, ни на уровне отдельных государств не обладает возможностью (да и вовсе не ищет ее) вести касательно российских дел какую бы то ни было особую политическую линию. Ссылки на объективные хозяйственные интересы Старой Европы теоретически выглядят резонно, однако на практике она не в силах хоть сколько-нибудь последовательно на них настаивать.
Понять, чего не хочет Киев, не столь трудно. Но любопытней доискаться ответа на вопрос: чего же он подлинно добивается. Здесь нам не обойтись без краткого историческогообзора.
- Особенность украинского самостийничества в том, что оно ни под какие из существующих учений о национальных движениях не попадает, - писал более полувека тому назад проф. Н.И. Ульянов. - Схема развития всякого сепаратизма такова: сначала якобы пробуждается "национальное чувство", потом оно растет и крепнет, пока не приводит к мысли об отделении от прежнего государства и создании нового. На Украине этот цикл совершался в обратном направлении. Там сначала обнаружилось стремление к отделению, и лишь потом стала создаваться идейная основа, как оправдание такого стремления. ("Происхождение украинского сепаратизма").
Что бы не читали мы по "украинскому вопросу", будь то проф. Ульянов, Щеголев, или, к примеру, монография Андрея Дикого "Неизвращенная история Украины-Руси", равно и литературу новейшую, - рано или поздно обнаруживается главная особенность "украинства" во всех его проявлениях. Меньше всего в нем "самостийничества" и "нэзалэжничества", в чем их по привычке обличают критики.
По мере изучения вопроса становится очевидным, что движение это на самом деле никогда не стремилось к государственно-политической независимости, то бишь – к самостоятельности. Оно лишь предлагало той или иной "сильной" стороне своеобразную, но вполне понятную сделку в пределах "услуги за услугу". В обмен на оказание интимных геополитических услуг, в т.ч., самого предосудительного свойства, "украинство" настаивало всего-то на "крышевании", т.е., на гарантированном предоставлении этому движению контроля над людскими и административными ресурсами в пределах определенной территории, границы которой официально признавались "крышующей" стороной. Но едва получив такую гарантию, "украинство" тотчас приступало к поиску более выгодного гаранта, предавая гаранта нынешнего с потрохами. Жертвой этого непреодолимого культурно-поведенческого стандарта на протяжении веков становились и турки, и крымские татары, и поляки, и шведы, и немцы, и, - в особенности, - Москва...
"У казаков с давних пор жила мечта получить в кормление какое-нибудь небольшое государство. Судя по частым набегам на Молдаво-Валахию, эта земля была раньше всех ими облюбована. Они ею чуть было не овладели в 1563 г. /.../ Невзирая на неудачи, казаки чуть не целое столетие продолжали попытки завоевания и захвата власти в дунайских княжествах. Прибрать их к рукам, учредиться там в качестве чиновничества, завладеть урядами — таков был смысл их усилий. ... Москва, как известно, не горела особенным желанием присоединить к себе Украину. Она /.../ не спешила отвечать согласием и на слезные челобитья Хмельницкого, просившего неоднократно о подданстве. Это важно иметь ввиду, когда читаешь жалобы самостийнических историков на "лихих соседей", не позволивших будто бы учредиться независимой Украине в 1648—1654 гг. Ни один из этих соседей — Москва, Крым, Турция — не имели на нее видов и никаких препятствий ее независимости не собирались чинить. /.../ Не в соседях было дело, а в самой Украине. Там попросту не существовало в те дни идеи "незалежности", а была лишь идея перехода из одного подданства в другое. ... Насчет истинных симпатий Хмельницкого и его окружения двух мнений быть не может — это были полонофилы; в московское подданство шли с величайшей неохотой и страхом. Пугала неизвестность казачьих судеб при новой власти. Захочет ли Москва держать казачество как особое сословие, не воспользуется ли стихийной приязнью к себе южнорусского народа и не произведет ли всеобщего уравнения в правах, не делая разницы между казаком и вчерашним хлопом? /.../До 1648 года казачество было явлением посторонним для Украины, жило в "диком поле", на степной окраине, вся же остальная Малороссия управлялась польской администрацией. Но в дни восстания польская власть была изгнана, край оказался во власти анархии, и для казаков появилась возможность насаждать в нем свои запорожские обычаи и свое господство.
...Выработанная и сложившаяся в степи для небольшой самоуправляющейся военно-разбойничьей общины, система эта переносилась теперь на огромную страну с трудовым оседлым населением, с городами, знавшими Магдебургское право. "Суверенные права", "национальная независимость" не имели никакой цены в сравнении с фактической возможностью управлять страной, распоряжаться ее богатствами, расхищать земли, закабалять крестьян. О национальной независимости они даже не думали /.../и по причине крайней опасности этой материи для казачьего благополучия. В независимой Украине казаки никогда бы не смогли превратиться в правящее сословие, тем более — сделаться помещиками. Революционное крестьянство, только что вырвавшееся из панского ярма и не собиравшееся идти ни в какое другое, хлынуло бы целиком в казаки и навсегда разрушило привилегированное положение этого сословия. " /Н.И. Ульянов/.
Едва обязавшись "служити и прямити" Московским государям, турецкоподанный гетман Богдан Хмельницкий повел секретные переговоры со шведским королем и трансильванским князем, подыскивая себе иную "протекцию".
Так начал формироваться теперешний Киевский протекторат, главной особенностью основателей которого стали постоянные поиски все новых и новых протекторов.
Менее чем через 300 лет с этим незыблемым "военно-разбойничьим" политическим подходом, по сей день сохраненным украинистской элитой, столкнулась Германия.
Русский эмигрант П.Н. Бутков, воевавший на стороне "держав оси" и "антикоммунистического пакта", входил в состав особого подразделения, созданного из членов РОВСа Абвером и, формально, Болгарским Генштабом. "Группы были небольшие — по 7-8 человек, - рассказывает Павел Николаевич в своих мемуарах "За Россию" /sic!/. - Они должны были в освобожденных от Красной Армии районах организовывать администрацию, чтобы население по возможности смогло начинать нормальную жизнь. /…/Организация местного населения имела большое значение для немецкой армии, чтобы тылы были готовы к быстрому подвозу нужных снаряжений и войск для успешного развития блицкрига. ". Зимой 1942 г. задачи групп расширились: им поручили "формировать антибольшевистские части и связывать их с нашим командованием". Наконец, в августе 1942, Бутков оказался в группе, которой было дано чрезвычайно ответственное и деликатное задание. Ему был дан приказ о переброске в Винницу. Рядом с городом находилась главная ставка Гитлера "Вервольф". В группу "входили мой очень хороший друг мичман Аксаков /обер-лейтенант Аксаков – профессиональный разведчик, резидент Абвера в Николаеве, сотрудник разведывательного отдела управления Командующего тылового района группы армий "А"/ и еще двое. Мы должны были отправляться в Винницу, /.../ где формировались украинские соединения. /…/ Разобраться в этих украинских делах, так как немцы совсем в них запутались. "
В Виннице Буткова встретили "большие вывески 'Не розмовлятися на москальской мови'. ". Вскоре Буткову довелось познакомиться с неким "бунчужным", что получило свое продолжение. Однажды мемуарист отправился в местный театр, где "совершенно свободно говорил по-русски. И тут разыгралась трагикомедия: появился этот бунчужный и еще несколько в форме, подошли ко мне и заявили, что запрещено разговаривать по-русски, хотели меня взять под руки, но я вывернулся, отошел и выхватил из кармана свой маузер и направил на них. Хорошо, что в это время вошел украинский офицер в чине генерала и, увидев меня, сразу подошел и спросил, в чем дело. Я вытащил свой нарукавник с "ОКБ"/т.е., "оберкомандо вермахт"/ и сказал, что я представитель Болгарии и мне запрещают говорить по-русски, а я же не знаю украинского языка".
Все это весьма напоминает нынешнее положение вещей в тех краях. Но самое любопытное выяснилось несколько позднее. "Мы старались развязать узел, который в Виннице сплетался с различными группировками украинских самостийников. /.../Мой друг Сергей Сергеевич Аксаков набрел на самую для нас интересную "подпольную" организацию украинцев, которых всюду в местной администрации было полно. Удалось обнаружить "все секретные квартиры этих украинцев, включая подпольную типографию, которая печатала всевозможные воззвания населению. Украинцы имели тогда контакты с красными, которые им обещали полную независимость Украине. /.../Все, кто был связан с этой подпольной украинской организацией, были сняты с работы и ввиду того, что большинство было из галичан, высланы из Винницы. После этого немцы перестали так доверять украинцам, и их самостийные формирования и школы в Виннице были закрыты. " /См. П.Н. Бутков, "За Россию", изд. "Экополис и культура", СПб, 2001/
Очевидно, наиболее проницательные украинистские организации уже на исходе 1942 г. пришли к убеждению, что пришло время в очередной раз сменить протектора.
У нас нет никаких оснований сомневаться в том, что подобная судьба ожидает и США. Впрочем, эти последние стараются действовать достаточно осторожно, стараясь держать "ищущих протекции" на коротком поводке. До сегодняшнего дня им это по большей части удавалось. Но день завтрашний – неизбежен.
О предтечах конфликта НАТО и России - в статье Юрия Милославского "Стратегическое одиночество, "протоНАТО" и государство российское"